Одна из публикаций рассказа — «Приокские зори» № 4, 2021 г.
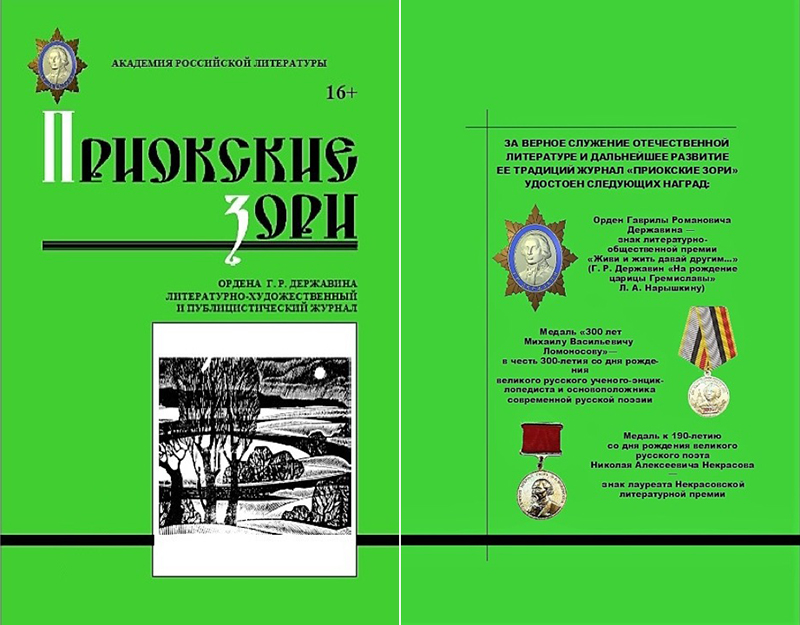

Любаня Павлова смутно помнила брата и стыдилась, что облик Петруши стёрся в её воспоминаниях, но помалкивала. Как признаться в том, что не помнишь проводы брата на фронт? Он ушел после выпускного вечера, а возвращался орденоносцем, участником Парада Победы. Восьмилетняя Любаня верила, что одного страшного письма об отце, пропавшем без вести, для Павловых предостаточно, и потому гордо показывала всем знакомым весточку от Петруши: «Он написал, что придет в июле! Уже июль!» Старшая Анютка показывала единственное фото брата, но почти стёртое, плохо различимое.
Младшая Катюшка родилась в сорок втором и брата не видела вовсе, но ждала, как и все Павловы. Ведь Любаня рассказала столько историй о былинном богатыре и его волшебном мече-кладенце, отрубившем головы фашистскому войску!
Каждый день Любаня и Катюшка гнали козу на косогор. Пока паслась их кормилица, Любаня вязала пуховые варежки, и рассказывала сестре сказки, а Катюшка высматривала, не пылится ли на горизонте грунтовая дорога. Все восторженные ожидания им испортил Сёмка Кривоносов. Он вернулся в Малыхино за две недели до Петруши. Со станции приехала телега, заваленная трофейными чемоданами, а сверху громоздился румяный Сёмка, растягивавший зеленые бархатные мехи гармошки. Мотя бежала к нему с цветами, Тимофеевна плакала от счастья и семенила следом на ватных ногах. «Ну, Катюшка, не горюй, — сказала Любаня, — наш Петруша придет как герой, в кольчуге и в серебряном шлеме. Верхом на белом скакуне. А седло бисером расшито». Анютка посмеивалась над Любаней, качала головой. Василёк хмыкал: «Придумщица».
Петруша пришел со станции пешком за полночь, Павловы уже спали. Загремел в сенях, затопал ногами. Мама вскочила с лавки, не успев даже шаль на плечи набросить. Высокий, светловолосый, загорелый, пахнущий махоркой. Ни кольчуги, ни меча. Только вещмешок и хрусткий офицерский планшет.
Любаня провисела на шее брата до утра – не оторвать, и не заметила, как и когда уснула. Утром, когда старшие ушли на колхозное поле, она перемыла посуду, а козу привязала у обглоданного палисадника, хотя та и показывала свою обиду.
Вернувшись в горницу, Любаня украдкой рассматривала брата. При свете лучины вечером что увидишь? А теперь она примечала всё: белый узкий шрам под носом, резко очерченные губы, выбритые виски и белую полоску кожи из-под воротника гимнастерки.
Все Павловы, кроме Катюшки, были похожи на отца: узкие в кости, тонконосые, белокурые. А младшая – вылитая мать, черноволосая, курносая, пухлогубая. Только смоляные кудри малышки украл тиф.
Брат заглянул за цветастую занавеску. Там на койке спала Катюшка. Брат вытянул из подушки утиное пёрышко, пощекотал курносый носик и разбудил сестру.
— Ну, здравствуй, Катерина Мефодьевна! — широко улыбнулся он.
Катюшка натянула на нос лоскутное одеяло, и испуганно смотрела на незнакомца. Петруша нисколько не смутился, а ловко вытащил сестрёнку и стал подкидывать к самому потолку, пока она не лягнула его голой ножкой.
— Ох, и худая! Видно, только сныть и лебеду ели! Не ноги, а лапки лягушачьи, — Петруша засмеялся и усадил сестру на кровать.
— Это она после тифа. И не разговаривает совсем, только иногда смеется или плачет, — обняла Любаня хмурую сестру.
— Ну, косы — дело наживное, вырастут, и станет наша царевна-лягушка Катериной Прекрасной, — смущенно провел ладонью брат по обритой головёнке.
Когда все прибежали на обед, Петруша достал из вещмешка два свертка белого и оранжевого парашютного шелка. Анютка подхватила невесомую ткань и закружила по горнице, напевая: «Хочу пышную юбку! Как у королевы!» Мама удивленно пожала плечами: «Жёлто-горячий. Откуда такой?», а Петруша засмеялся: «С сигнального парашюта». Мама отобрала ткань и строго сказала: «Если с умом, без этих ваших «солнце-клёш», то здесь на три платья хватит, и Катюшке на рубашку». Любаня с Анюткой вздохнули, но согласились.
— А мне? — спросил Василёк и покраснел, он считался в свои пятнадцать лет взрослым.
Ему достался красно-синий офицерский карандаш, заточенный с обоих концов.
Катюшка ждала очереди и сопела в углу. Петруша протянул ей жестяную банку с леденцами. С голубой крышки улыбалась лупоглазая кудрявая блондинка, а внутри лежали рядами круглые цветные леденцы. Катюша отковыряла одну и сунула в рот. Не знавшая ничего слаще ревеневого киселя, девчушка скривилась от приторного вкуса и выплюнула конфету на ладошку. Все вокруг засмеялись, а Катюшка неожиданно заплакала и спряталась на койке за занавеской.
Мама, не слишком обращая внимания на её слёзы, дала всем по липкому леденцу и спрятала жестянку в карман фартука. Петруша взял Катюшку на руки, прижал к плечу и, поглаживая по спине, вышел из избы. Они дошли до колхозной конюшни и вернулись довольные и примирившиеся, словно у них появился какой-то общий секрет.
На следующий вечер, когда Любаня с Катюшкой гнали козу с косогора, Мотя Кривоносова окликнула их. Она собиралась на вечёрки, потому нарядилась в новое полосатое платье с блестящими пуговками, а в толстую косу вплела алую ленту.
— Ну, что? Пришел братушка?
Катюшка радостно закивала, а Любаня собралась простодушно выложить все, как на духу и про карандаш, и про обещанные шелковые платья, как Мотя хмыкнула.
— Знаю-знаю. Видали вещмешок пустой. Консервов-то хоть привез?
— Каких консервов? — спросила Любаня и покраснела до самых кончиков волос.
— В металлических банках! — с торжеством в голосе сообщила Мотя.
— А вот и привез! — неожиданно для самой себя выпалила Любаня, — даже конфеты в консервах! Одну конфету можно целую неделю сосать, и она все равно сладкая! Вот!
Катюшка не могла поддержать старшую в споре, а потому высунула язык и зашагала в сторону калитки, а Любаня заспешила следом, таща за веревку козу. О насмешках Моти Любаня никому не рассказала — что взять с глупой соседки? У нее одни наряды на уме, да пляски под гармошку. А все равно Анютка и стройнее, и красивее, ей бы платье… Хотя бы и жёлто-горячее, из парашютного шёлка, на платье не написано же из чего оно!
На закате закрапал дождик, размочил глинистую дорогу, прибил жару, и усталая после работы, но неугомонная Анютка тоже убежала на посиделки. Мама тревожилась, потому что семья ужинала без Петруши. Любаня шёпотом спросила, когда же мама начнет кроить яркий парашют, но та была расстроена и лишь рукой махнула. Тогда сестры пристроились у керосинки и погрузились в потрепанную книжку сказок. Василёк штудировал геометрию, по которой был оставлен на осень. Тикали ходики, навевая сон. Дождь перешел в ливень, и уже на окнах чертил дорожки. Вымокшая до нитки Анютка забежала в избу.
— Что-то ты быстро обернулась, — заметила мама.
— Плохие дела у Кривоносовых. Мотя только пришла на вечёрки, как ее участковый вызвал. Что-то Сёмка натворил. Федул-почтальон заявление написал.
— А Петруша где?
— Не видала.
Больше от Анютки ничего не добились, она вытирала полотенцем потемневшие от дождя русые косы и отговаривала беспокойного Василька бежать к соседям. Мама у окна вздыхала, словно чувствовала, что беда Кривоносовых коснется и Павловых. Наконец дверь отворилась, и вошел старший сын. Сняв тяжелый промокший пиджак, он сел за стол и тихо сказал: «Я из сельсовета». Катюшка забралась к нему на колени, а мать придвинула сыну подогретую миску с затиркой. Малышка разевала жадный рот, и каждая вторая ложка отправлялась ей, пока мама не прикрикнула. Все ждали, когда Петруша расскажет все сам.
— Иди-ка спать, царевна-лягушка! — легонько хлопнул сестру пониже спины, Петруша повернулся к матери, — Кривоносов сидит под замком в сельсовете. Из-за письма.
— Оказывается, не соврали про Федула, — протянула Анютка.
— Вот черт хромой! — всплеснула мать руками.
Оказалось, что почтальон Федул отнес «куда надо» письмо фронтовика Кривоносова фройлян Бонке в Штудгарт. И завертелось! Сёмка когда-то вывернул карманы у пленного немецкого солдата, нашел там портсигар, фотографию и письма от немецкой невесты. Умолчав о бессмысленном трофее, Сёма привез его в Малыхино, как говорится «до кучи», а потом взял да и написал письмо немочке: «Не ждите своего Ганса, мы наголову разбили поганые фашистские орды и водрузили над побежденным Берлином красный советский стяг».
— Не для детских ушей! — грозно посмотрела на всех мама и отправила спать.
Дети затихли, только Любаня прислушивалась к негромкому разговору, всё больше наполняясь неясным смятением. Вокруг еле горевшей керосинки витали косматые страшные тени.
— Сынок, я прошу тебя, отойди в сторону, — тихо сказала мама, и Любаня удивилась ее странному тону, — ты не знаешь, какие это люди, Кривоносовы. Пусть Тимофеевна сама с Федулом решит, по-бабьи.
— С Федулом уже поздно говорить, — немного помолчав, решительно ответил Петруша, — Сёмка — фронтовик, после контузии. Я его не оставлю. Завтра уполномоченный приедет. Я хотя бы с ним перетолкую.
— Ну, ради меня, сынок, не надо! — мама положила ладонь поверх его ладони, стараясь убедить, уберечь, — нам ещё отца искать. У нас своя беда, у них — своя.
Взрослые еще что-то бормотали, но так тихо, что Любаня не расслышала, хоть даже шею вытянула из-за занавески. Наконец они загасили керосинку и отправились спать, но мама еще долго всхлипывала на лавке.
Наутро Петруша ушел в сельсовет, а к Павловым прибежала воющая Тимофеевна с чемоданом трофейного барахла. Мама стояла у двери, широко расставив ноги, уперев руки в боки. Любаня никогда не видела ее такой рассерженной. Катюшка смотрела на соседку поверх кружки разбавленного козьего молока.
— Твой Пётр коммунист, вон вся грудь орденами сверкает. Вам чего бояться? А за моего дурачка кто заступится? Кто? — Тимофеевна падала в ноги, выла. Её цветастый платок сбился на затылок, обнажив седые косматые прядки.
— Забудь сюда дорогу! Забирай свое добро! Вон из избы! — мать сердилась и рукой показывала на дверь. Любаня почувствовала, что мама не только сердита, но и не меньше соседки напугана.
— Посмотри на детей, голые и босые! — Тимофеевна утерла слезы и подвинула чемодан к ногам мамы, — мне не жалко ничего, бери хоть всё. Хочешь, иди ко мне в избу, выбери, что надо тебе. Только пусть Пётр поможет!
Из-за печи вышел Василёк и волоком вытащил чемодан за ручку на порог. Следом вышла завывающая Тимофеевна.
Стараниями Петруши Сёмку вскоре отпустили. Непутевый дурачок два дня отлеживался дома, а на третий шустрая Тимофеевна отвезла сына в областной госпиталь. Через неделю, когда соседи устали чесать языками о Сёмке, Петрушу неожиданно вызвали в военкомат.
Он быстро и хмуро собрался, перецеловал всех и посмотрел на маму долгим взглядом. Когда за ним закрылась дверь, Василёк ляпнул:
— Если бы его из-за Сёмки, то в милицию бы вызвали или в НКВД…
— Ишь, умник! — хлопнула мама Василька по спине полотенцем, — слова-то какие знаешь! Языком не трепли!
Но сама не выдержала и закрыла лицо ладонями. По Петруше заплакали в три голоса, а Любаня обнимала ничего не понимающую Катюшку и держалась. Только когда мама ушла на ферму, слёзы полились сами. Даже, как казалось навсегда, замолчавшая после болезни Катюшка четко произнесла: «Беда!» и уткнулась носом в плечо сестре.
Радоваться ли тому, что малышка заговорила? Сказать маме или нет?
До позднего вечера в избе царила тягостная тишина, изредка прерываемая скрипом двери. Это Василёк мотался к косогору, пока мама не пригрозила ему всеми небесными карами.
Наутро, едва старшие ушли на прополку колхозного поля, Любаня с Катюшкой погнали обиженную козу на пастбище. Бог знает сколько дней бедная животинка объедала скудную траву перед двором, а теперь резво трусила впереди девчонок как собачонка. Всегда хмурая Катюшка улыбалась странной, счастливой улыбкой. Любаня прикрикнула на неё, копируя маму, потом неожиданно опустилась на землю и горько-горько заплакала. Катюшка обвила шею сестрёнки тонкими, почти прозрачными ручонками и что-то залепетала, потом стала дергать за плечо, а когда Любаня отмахнулась – сдернула косынку с её головы. Сквозь мокрые ресницы Любаня посмотрела вдаль с косогора. По грунтовке пропылил грузовик и остановился возле избы Павловых. Силуэт мужчины, спрыгнувшего с кузова, узнала даже Катюшка. Любаня заметалась под чахлыми яблоньками, наспех привязывая козу. Поволокла Каюшку за руку, а потом и вовсе посадила себе на спину и, ожесточенно пыхтя, обзывая сестру толстухой, побежала к своей избе.
Петруша готовил тюрю в большой плошке. Он засмеялся, встречая чумазых и запыхавшихся сестер.
— Кто это такие? Кажется, Золушка и Царевна-Лягушка пожаловали?
Любаня и плакала, и смеялась одновременно. Она увидела свое чумазое лицо в осколке зеркала над умывальником и смутилась. Потом умылась и села на лавку рядом с братом. Ей и в голову не пришло побежать за старшими на поле. Катюшка немедленно вскарабкалась к Петруше на колени. Брат прижимал к себе ее бритую головёнку.
— А я подарки привез. От королевы. Знаете, в Великобритании живет королева Мария, а правит ее супруг – Георг четвертый, — сказал он шутливо, когда девчонки немного успокоились. Доверчивая Катюшка таращила глаза, а Любаня подозревала подвох.
— А как же милиция? — робко спросила она, шмыгая носом.
— Да не был я в милиции! — поднял брови Петруша, —в военкомат вызывали. Всем офицерам-участникам Парада Победы королева Мария прислала посылки. Прямо из Великобритании. А я не получил вовремя, попал в госпиталь, когда рана открылась… Вот посылка и нашла меня.
Петруша кивнул на огромный ящик возле окна, который сёстры в спешке не заметили.
— А что там? — робко спросила Любаня.
— Разное. Шинель из сукна, костюм штатский, ботинки, всякие отрезы материи. Но главное – там подарок для Катюшки.
— Разве королева знает о нашей Катюшке? — с сомнением посмотрела Любаня, но у сестры уже заалели щеки, и она захлопала в ладоши со всей энергией, на которую была способна.
Петруша ссадил сестру с колен и вытащил из ящика что-то белое, невесомое. Это были детские носочки, отороченные по верху вязаным кружевом. Катюшка вертела их в руках. Она никогда не видела ничего подобного. Петруша поднял палец вверх и сказал:
— Придется помыть лягушачьи лапки. Ради такого дела…
Вскоре Катюшка ехала на шее у брата, свесив тощие ножки в бесполезных, но невыносимо великолепных носочках. Её глаза искрились улыбкой, пальцы сжимали ворот гимнастерки брата, а губы лепетали: «Не беда, не беда».