Новый рассказ в журнале «Ротонда».
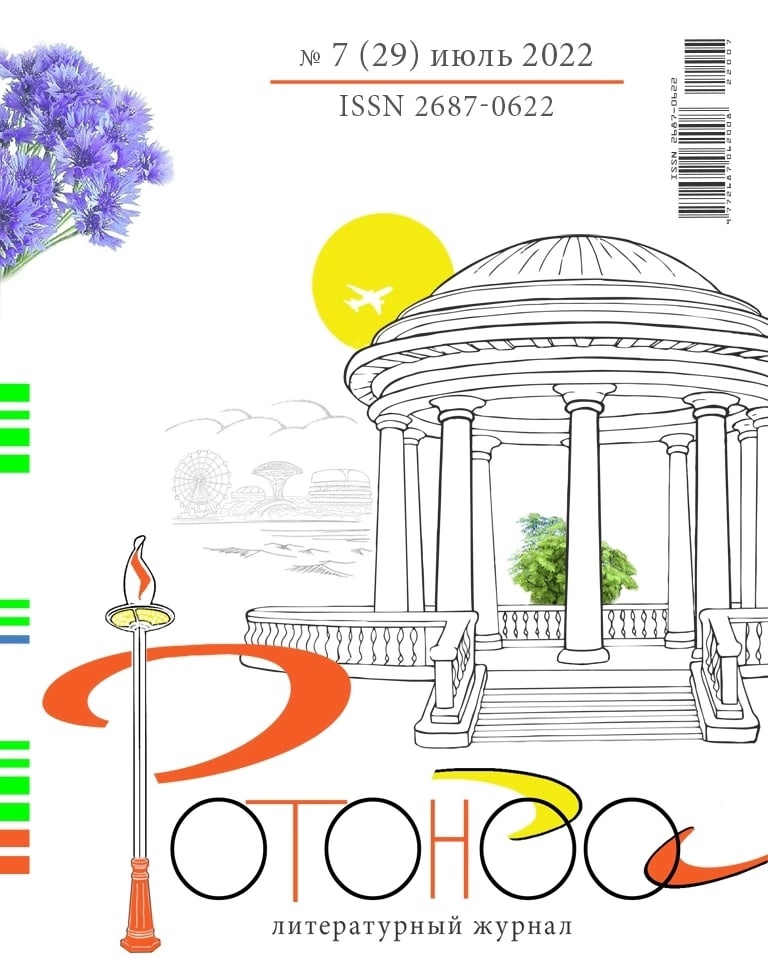
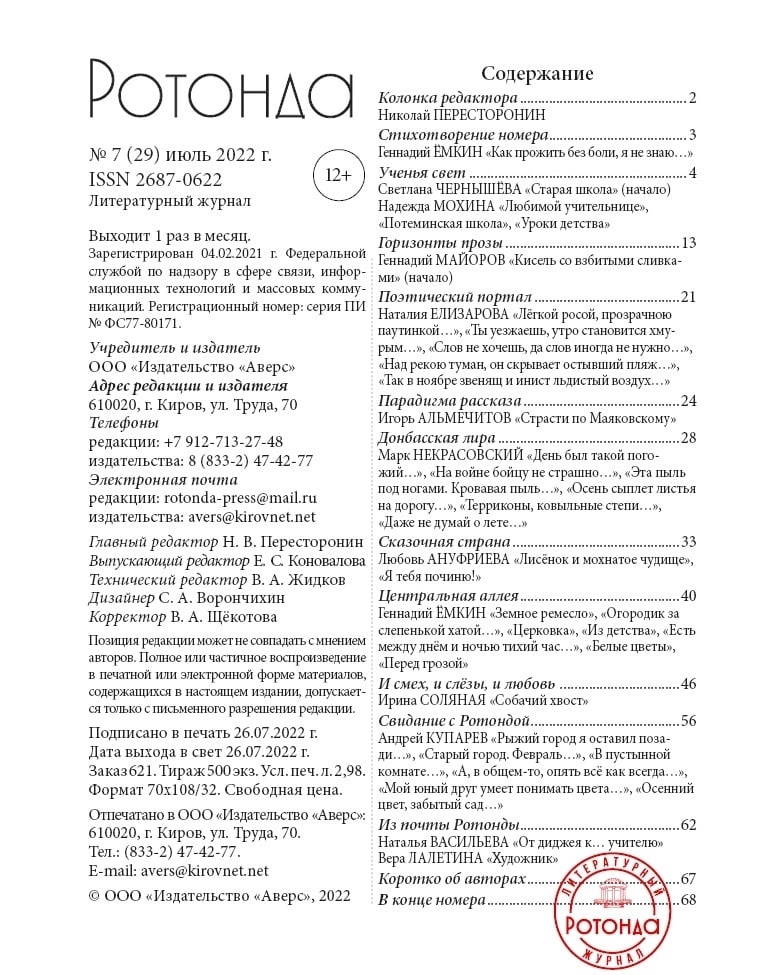
Началось всё с собачьего хвоста… Хотя нет, с нового сюртука. Или с обчественного прогресса?
Или с того, что я к чаю не явился, а Лизанька Окунькова на меня осерчала? У каждого своя правда. Лизанька и ее сестра Раечка, да еще их маменька Домна Егоровна, вдова действительного статского советника ждали меня на пятничное лото. Уж и карточки приготовили, и самовар дважды разжигали, а негодяй не соизволил явиться.
Сопровождалась вся история клеветническими измышлением газетчика Мерзоткина, а кончилась — полным крушением моих матримониальных надежд, странным приобретением и новыми планами
Но начну по порядку.
Прогуливался я от перекрестка Кузнечной и Гороховой, где нынче трамвай ходит. Шел при полном параде: в новом сюртуке болотного цвету с атласными лацканами, а в петлице хризантема. В таком презентабельном виде не то, что на чай к Лизаньке, а на променады по главному прошпекту не стыдно. Ямщик, мерзавец, остановил на углу, чтобы я букетик резеды приобрёл, да и прочь поехал. Нет бы подождать! Всё иначе бы обернулось – не оскалом суровой судьбины и собачьим хвостом, а меренгами и клубникой со сливками.
Букетик я подмышку пристроил и вышагиваю. Смотрю, прямо на рельсах собаченция лежит, лохматая, здоровенная. Дворника Степана недавняя подруга. Округу знает, как свои четыре лапы, а к трамвайному разъезду не приучена. Тут из-за поворота – трамвай. Батюшки-светы, ну и переполох поднялся! Кондукторша из окна высунулась и медным колокольчиком трезвонит. Мальчишки с подножки спрыгнули, и ну улюлюкать. Дворник Степан в свисток дудит, бабоньки с товарами на раскладах визжат. А собаченции хоть бы хны! Храпит, как гласный на земском собрании.
Тут и моё сердце не выдержало. Не зря в церковном хоре почитай пятнадцать лет на басах стою, гаркнул что есть мочи: «А ну, пшла-а-а!»
Собаченция вскочила, глаза вытаращила, давай кружиться на месте, что твой волчок. Трамвай хоть и звенел предупредительно, тормозил что было скрипу в его колесах, а все-таки собаченции хвост переехал. Ох и визгу было, ох и вою. Степан с метлой куда-то делся, а кондукторша выскочила и хвать раненую собаченцию, тычет мне её в руки и приговаривает:
— Барин, барин! Лучше надо за животинкой смотреть!
— Да не моя это животинка, — говорю, — чего вы мне её как младенца в руки пихаете? Я вам не счастливый папаша, а вы — не акушерка.
Трамвай дальше поехал, а жители улицы Гороховой меня обступили и давай стыдить:
— Чуть до смертоубийства не дошло, барин. А ежели бы кондукторша из окна от усердия вывалилась? Нешто можно так неосмотрительно собачку выгуливать!
— Заведут бакака`я! Он без намордника шатается всюду, людей добропорядочных пугает. Вон, наша молочница Клава, с испугу чуть не разродилась, а ей сроки только в октябре.
— Ишь, сам сюртук надел, букетик у него за три рубля. Явно из порядочных. А чтобы собачку на поводок нацепить – нет, им образование не позволяет!
Стою я посреди Гороховой и слушаю необоснованные упреки. «Не моя, — говорю, —псина, а дворника Степана принадлежность. Точно знаю». Да только не слушает никто. А собаченция так жалобно в глаза смотрит, отрубленным хвостом вилять пытается, на руках моих повисла. А сюртуку болотного цвета с искрой близкое соседство с псиной вовсе не по нутру.
Тут будочный невесть откуда взялся. Подошел, ус вертит и строго на публику зыркает. Обидчики мои разошлись нехотя, поскольку его начальственный вид как бы намекает о грядущих неприятностях.
—Пройдемте, господин хороший, разберемся.
Букетик я с испугу из подмышки выронил, да и не до него. Плетусь за будочным, жертву прогресса на руках тяну и причитаю: «Не видать нынче мне чаю со смородиновым вареньем у Окуньковых!» Будочный меня в караулку завёл, усы подкрутил и подводит к итогу:
— Пожалте рупь с полтиной за то, что я вас от обчественного порицания увёл. Протокол составлять не будем, происшествие пустяковое. А я уж за ваше здоровьице дерябну.
Делать нечего, пришлось рупь с полтиной отдать.
Остался я на улице со скулящей животинкой, испорченным сюртуком и без всякой надежды на игру в лото с Лизанькой и Раечкой. Обнимаю собаченцию, а сам думаю: «А вдруг травма серьезная, шут его знает. Подохнет божья тварь ни за грош. Вон и родственник ее, Степан, отрекся. Некому позаботиться!»
Рядом с караулкой была редакция нашей городской газеты «Веское слово», я туда и направился. Прямо с собаченцией. На мою радость давний знакомец репортер Мерзоткин на месте был.
—Ну-ка, ну-ка, ну-ка, — зачастил Мерзоткин, — что это такое у тебя?
— Вот, говорю, родственником бог наградил. Не подскажешь конского доктора какого? Вдруг и собак пользует. Вишь, хвост у собаченции напрочь отвалился.
Мерзоткин псину за хвост хвать, а она не будь дура за палец его цап. Познакомились.
Вытолкал меня репортера улицу со словами: «Анис Дионисович с Малой Конюшенной практику имеет, только по целковому берет».
Думаю себе: «Это ж если коня или лошадь, то по целковому. Не может же собачий хвост столько стоить?»
Кликнул ямщика, а «ванька» говорит:
— Нет уж барин, это я тебя за полушку вез одного, а с подругой за семишник.
— Какая подруга! — возмущаюсь я. — Это шавка беспородная, вот кто. И вообще она Степану дворнику с Гороховой принадлежит, не моя животина вовсе.
— Не хотишь, не ехай, — шапку на бок сдвинул и смотрит на меня, паршивец, — цена моя остатняя.
Поехал. На виду у всей Заводской, Садовой и Малой Конюшенной. Нет бы сюртуком болотного цвету с искрой хвалиться, а я собаченцию беспородную благородным господам демонстрирую: «Здрасьте, уважаемый Поликарп Поликарпович с супругой. Да нет, это я не прогуливаюсь, к конскому лекарю еду. И вам доброго здоровьичка, Катерина Симоновна, не болонка это, не подумайте, и не шпиц вовсе. А породы редкой, заграничной. Бакака`й по-нашему, или Кабыздох по-вашему. Мое почтение, Лука Прокофьич, нет, это не подарок Лизаньке Окуньковой везу, это меня судьбина дубиной обрадовала по хребту».
С тем и приехал, «ваньку» отпустил и ногами как наш рябой повар из кухмистерской в дверь Аниса Дионисовича стучу, потому что руки мне божий дар, жертва прогресса и родственничек в одном собачьем лице, оттягивает.
Открывает горничная. Веселая, румяная, что твоя булка с маком.
—Ой, — говорит, — вы не по адресу. Мы «ле чейн» не пользуем, досточтимый Анис Дионисович только «ле шеваль» осматривает.
— Помилуйте, дорогуша, — говорю я несколько развязно, — не тащить же ее обратно на трамвайные рельсы. Второго шанса, что ей отдавят только хвост, не предвидится. Вероятнее всего, распополамят данную «ле чейн».
Горничная оказалась не глупенькая, доложила лекарю о прибытии.
Анис Дионисович надел пенсне, ручки потер и пристально на меня посмотрел.
— Не маменьки ли вашей любимица?
— Нет, маменька моя еще в шестьдесят втором со святыми упокоилась.
— Может, вашей невесты прихоть?
— Не дай бог узнает.
— Значит, это у вас такой дрянной вкус, молодой человек. Как в другой раз вздумаете питомца заводить, рекомендую вам гончих от Петра Самсоновича Державина. Ох и злобны! Зайца два раза трепанут – душа вон. Лапы крепкие, плотные, постав правильный. Полаз быстрый, добычливые неимоверно. Сам покупаю у него.
— Господи Святый, — бормочу, — куда мне гончих, я и в дворовых-то не понимаю.
Рассказал я ему всю историю, как есть, и без украшательств. Только про рупь с полтиной, что будочный выманил, утаил. Это уж совсем стыдновато. Посмотрел Анис Дионисович на мой сюртук, на собачий хвост, вздохнул, перекрестился и зовёт горничную:
— Глашенька, готовь эфир.
Через час пришил конский доктор собаченции хвост. И денег с меня не взял, такие вот дела. Сказал только: «Тошнить вашу «ле чейн» будет, вы ей бульончика дайте».
Так и поселилась у меня животинка. Наутро она проснулась и обнюхивается кругом. Кое-как встала на лапы, шлепанцы в зубы и мне приносит. Вот, спасибо, дорогая. Жалобнёхонькие глаза подняла на меня, но я не сдаюсь. Вид имею суровый, пальцем ей погрозил. Потом размочил булку в молоке и дал поесть, а сам наказал:
— Сиди тут, я к Степану твоему.
Вышел и дверь за собой запер. Хорошо, что я с тётушкой живу, она глухая и очень добрая. Если уж до сих пор не выгнала за проделки, коих во студенчестве было предостаточно, то и теперь не выставит. А еще хорошо, что мне нынче в контору не идти. День субботний, не рабочий.
Степан дураком прикинулся:
— Не моя собаченция, барин. Это вас бес попутал.
— Как же так, дрянной ты огузок, не твоя? Всяк знает, что твоя.
А Степан в бороду скалозубит:
— Извольте, барин, почитать, чья собачка.
А я и читаю «Веское слово», что мне дворник подсунул: «Вчера на углу Гороховой и Кузнечной произошло неприятное происшествие, которое наводит на мысли о том, что не всякий гражданин нашего отечества, готов в прогрессу и быстрым переменам как общественного сознания так и городского благоустроительства. Некий господин, назовем его Булочкин Лексей Кузьмич, вздумал выгуливать собачку на трамвайных путях, препятствуя осуществлению проезда механического средства. Расторопность и высокий профессионализм водителя предотвратили катастрофу, и господин отделался только отрубанием собачьего хвоста».
У меня аж в голове помутилось. В глазах мушки стали роиться. Ах ты, Мерзоткин, не зря такую фамилию пакостную носишь! Это ты мне мстишь, шелкопёр, что собаченция тебя за палец тяпнула?
Сразу я в редакцию побежал, хотя надо было купить открытку с букетом и послать с извинениями к Лизаньке Окуньковой. Но тогда это казалось второстепенным.
Репортёр, закинув ноги в ботинках на стол, чистил ногти пилочкой.
— Ты зачем, Мерзоткин, необоснованно установил факты: прописал, что собака моя, что я её на путях выгуливал и что мне хвост отрубили?
— Не выдумывай, Лексей Кузьмич, я того и сроду не писал.
Я ему газетку под нос – смотри, душонка чернильная.
— Это корректор не сработал! Ох, неприятность какая! Мы напишем, что собака отделалась отрубанием хвоста, а то получается, что её хозяин.
Плюнул я себе под ноги и прочь вышел.
Сам домой скорей, душа-то болит, как моя собаченция, которую на весь город прославили. Прибегаю – сидит моя тётенька возле болезной псины и тужит:
— Это ж какие изверги так над божьей тварью поиздевались!
Ну, у меня от сердца отлегло, не выгонит тётенька ни меня, ни животинку.
— Как зовут-то её, Лексеюшка?
— Ле чейн, — и смеюсь.
— Безобразие. Уж и имен собачьих нет. Животину чайником называть, — тетя головой покачала только, — Жучка пусть будет.
На вечер я обрядился в прежний сюртук, черный, ношеный. Потому что болотный с искрой сильно уж потрепался от неожиданной прогулки по Гороховой. Снова купил резеды, коробку шоколаду и к Лизаньке Окуньковой с повинной.
А мамаша ее, Домна Егоровна, с порога встречает недоброй ухмылкой.
— Добро пожаловать, Лексей Кузьмич, как ваш хвост поживает? Аль новый отрос?
— Я уже в газету для публикации опровержения обратился, в скорости конфуз ликвидируют.
— Ну-ну, — с сомнением Домна Егоровна головой качает, — перед обчеством неудобно. Мы не из купеческого звания, батюшка покойный действительным статским советником был, так что… Нам не слишком комильфо с хвостатыми-то дружбу водить.
Прошёл я в залу. Лизанька на фортепианах играет, Раечка вышивает у окошка, лампу поближе придвинула. Поклонился я и конфекты протянул с букетом. Лизанька даже не посмотрела. Закончила падеспань, к польке приступила. Я сел. Сидим, в молчании, как осенние мухи на подоконнике. Ни чаю, ни какавы не предлагают — одни аккорды и пассажи. Раечка шепчет мне, чтобы маменька не слыхала:
— Что же, собачка жива осталась?
— Вам агромадный привет передает, говорит, что к Троице хвост прирастет окончательно, лучше прежнего.
Раечка прыснула, а Лизанька повертается ко мне и говорит:
— Знаете, Лексей Кузьмич, никак я от вас не ожидала, что вы противник прогресса, реакционер и ретроград. Сами про Белинского давеча говорили, а от трамвая, как черт от ладана шарахаетесь. Да еще хвост этот… Не могли, что ли под сюртук его спрятать, чтоб по рельсам не волочился.
Начал я было перед Лизанькой лебезить, ну да бесполезно. Дело было до моего приходу решенное: от ворот поворот. Уж сколько я не объяснял Лизаньке и про новый сюртук дивного болотного цвету, про то, что я ни сном, ни духом не собирался попадать в фантастические обстоятельства, а она не слушала. Хлопнула веером по запястью и на дверь указала. Никакого сочувствия мне, а только нездоровый интерес к собачьему хвосту. Даже Домна Егоровна мои неуклюжие извинения не приняла. А Раечка неожиданно всхлипнула и на прощанье чмокнула украдкой в щеку. До сих пор жжёт её слезинка.
Ни с чем я домой вернулся. А дома — гость. В ливрее такой блестящей, что в глазах аж меркнет. Камердинер генеральский, отрекомендовался Провом Лукичём.
— Специально вас дожидаюсь, уважаемый Лексей Кузьмич. Про вас мне будочный сказывал, вот я вас и нашёл.
И ласково так мне руку на плечо кладет, у меня аж сердце в пятки ушло. А если бы хвост имелся, вовсе бы со страху отвалился.
— Неделю беглянку искали, нашу Жужу, — сказал Пров Лукич и ласково потрепал собаченцию по шее, — вздумалось ей с поводка сорваться. Дочка его превосходительства, Оленька, все глаза выплакала. Так уж к старушке привыкла, с детства эта собачка с нею, ровно нянька. А уж умна…
Вытаскивает «катеринку» сторублевую и говорит: «Это вам за хлопоты, и на сюртук. Да пожалуйте в среду на чай. Вот вам визитка с адреском. А с нахалом, писакой газетным, мы уж как-нибудь сами разберемся».
Ушел камердинер, собаченцию забрал. Одарила она меня последним взглядом, который показался мне дороже «катеринки», и так на душе стало и светло, и грустно, словно майским ветром из сада повеяло.
На следующий день в газете было опровержение — не опровержение, а целая статья про сподвижника прогресса, скромного коллежского советника Лексея Кузьмича Булочкина, спасшего от неминучей гибели драгоценную семейную реликвию генерала Подольского.
Как водится, последовало письменное приглашение от семейства Окуньковых на чай. Понюхал письмецо – пахнет меренгами и напудренной дамской ручкой. Не пошёл, а двинулся по другому адресу – к Подольским. Надо же собачий хвост проведать? Да и что там за Оленька такая? Но это уж совсем другая история.